«Даже в поп-песенках нынешних 16–20-летних очень много настоящего»

Исследование и издание советской киномузыки — пожизненный проект для Олега Нестерова. Однако работу с «Мегаполисом» он прекращать не намерен. А главные надежды артист возлагает на поколение, родившееся уже в нулевых, и видит в их рэпе настоящее искусство. Об этом лидер легендарной рок-группы рассказал «Известиям» на фестивале «Зеркало», завершившемся на днях в Иваново.
«Это то, что следует спасать — и спасать немедленно»
— На фестивале «Зеркало» вы представили книгу об Олеге Каравайчуке и фильм «Чужие письма» Ильи Авербаха. Чем примечательна именно эта картина?
— Каравайчук и Авербах работали вместе на трех картинах. «Чужие письма» — последняя из них. И здесь Олег Николаевич уже предстает во всем своем величии. Он уверенно препарирует рояль, классический звук которого ему скучен, и следует методу звукозрительного контрапункта, предполагавшему отказ от буквального соответствия музыки и изображения.
На заре советского звукового кинематографа Эйзенштейн, Пудовкин и Александров в своем манифесте «Заявка» предостерегали от такого легкого пути, как прямая иллюстрация картинки звуком, и первые лет пять кино развивалось как раз в русле их идей, являя чудеса миру. Но затем приходит большой сталинский стиль, и всё меняется на традиционный голливудский подход. И вот к концу 1960-х Каравайчук фактически обращается к тем же авангардным практикам и начинает писать музыку таким образом, чтобы она продолжала шумы, а шумы вырастали из музыки. «Чужие письма» как раз очень яркий пример.
— Сейчас режиссеры в большей степени идут по дорожке «контрапунктического» кинематографа или по более легкому пути? Я, конечно, говорю о фестивальном кино — таком, какое показывается на том же «Зеркале».
— Я не в жюри «Зеркала», мне здесь сложно сказать. Но в целом массовый кинематограф сегодня — это чисто голливудский подход. И у нас ему тоже следуют. Хотя, конечно, есть художники, чье творчество — исключение. Например, если мы говорим о кинокомпозиторах, то в работах Алексея Айги и Леонида Десятникова подход неголливудский.
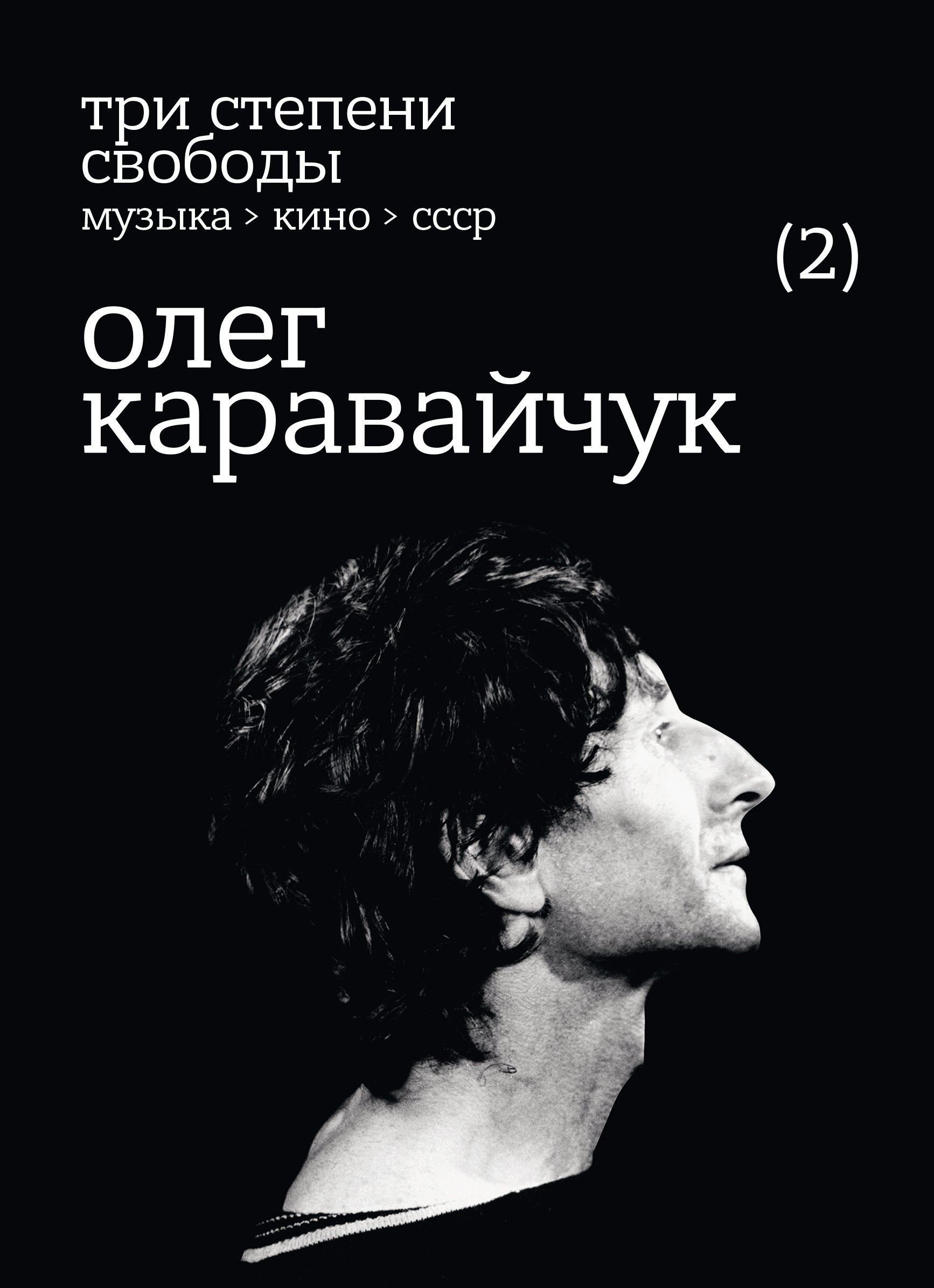
— Одновременно с вашей книгой о Каравайчуке вышел и сборник его киномузыки. Вы говорили, что эти записи удалось найти в архивах киностудий и публика прежде их не слышала. Много ли осталось такого, что еще ждет внимания исследователей и издателей?
— Когда мы делали сборник киномузыки Шнитке (первая часть проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР». — «Известия»), в нем было 90% неизданного ранее материала. У Каравайчука — все 100%. И у каждой последующей фигуры, которых будет еще много, эти проценты тоже будут очень велики. Это то, что следует спасать — и спасать немедленно.
— А конкретно по Каравайчуку вы издали всё, что нашли? Или там еще хватает неизвестного материала?
— У Каравайчука я выбрал самое важное. В советское время у него было в общей сложности 76 фильмов. У нас же 35 треков. Так что осталось, конечно, еще много неизданного. Но задача проекта — сконцентрироваться на том, что следует отделить от кадра и соединить с вечностью. Таков мой авторский взгляд. Может быть любой другой взгляд и другие задачи — например, издать полную антологию, где будет не 35 фрагментов, а 135.
— Много ли работы требуется, чтобы этот массив музыки — и Каравайчука, и других фигур этой плеяды — вышел к публике?
— Много. Шнитке я занимался шесть лет, Каравайчуком — два года, потому что был уже опыт, понимание того, как это делать. Но впереди другие герои, которые ждут своего часа. А само время — не ждет. Уходят очевидцы тех событий, исчезают материалы, портятся пленки… Я себе сказал, что это мой пожизненный проект. Сколько успею, столько сделаю.
— Какие еще фигуры будут в проекте?
— Назову лишь несколько: Моисей Вайнберг, Николай Каретников, Гия Канчели, София Губайдулина, Александр Кнайфель. Целая плеяда художников, которые создали облик советской киномузыки.
«Метод «Мегаполиса» — вхождение в поток»
— Вы говорите, что это ваш пожизненный проект. Но значит ли это, что всё остальное вы отодвигаете в сторону? Например, творчество «Мегаполиса».
— Давайте об этом поговорим! Метод «Мегаполиса» — вхождение в поток. Все наши работы с 1990 года — это совместное погружение, когда мы играем музыку, которая через нас течет, и дальше уже каким-то образом работаем с результатом. Часть этой музыки приходит вместе с текстами, где вообще ничего править не нужно. А иногда я кладу перед собой тексты других авторов и перелистываю их, находясь в потоке. Так был сделан альбом «Ноябрь», который потом стал и спектаклем. В этом плане, конечно, Каравайчук мне близок, ведь он тоже про вхождение в поток. Когда я пропускаю через себя ноты и мысли великих, собирая их наследие и ухаживая за ним, я, с одной стороны, делаю паузу в своей собственной композиторской работе, а с другой — очень подпитываюсь. Кстати, многие говорят, что даже на слух у «Мегаполиса» много общего с киномузыкой Каравайчука.
Так что, если говорить о соотношении исследовательской деятельности и собственного творчества, здесь вопрос баланса, меры.
— Как вы для себя определяете эту меру? Не мешает ли одно другому?
— Можно делать три проекта одновременно, но они должны быть в разных стадиях: холодной, теплой и горячей.
— То есть поклонники «Мегаполиса» могут быть спокойны, что вы не уйдете целиком в исследовательскую работу?
— Каждой личности требуется рост. И каждый находит свои способы. Я не собирался преподавать, а в итоге преподавал 20 лет. Да и продюсером не планировал быть, но нужно было помочь молодым артистам. Здесь то же самое. Я совершенно случайно занялся исследовательской деятельностью. Была внутренняя потребность спасти наследие советских кинокомпозиторов и сделать то, что никто, может, и не сделал бы. Для меня несомненно мое движение вперед, когда я превращаюсь в исследователя. Но моему развитию очень помогает и то, что я делаю с «Мегаполисом», когда сам нахожусь в состоянии потока.
«Самое важное — это впустить тему, Замысел с небес»
— У вас в книге есть очень яркий сюжет об общении Каравайчука, на тот момент уже немолодого, с Сергеем Курехиным. Они явно уважали друг друга, были увлечены общением и даже собирались вместе выступать. Вы сегодня видите среди музыкантов нового поколения фигуру, с которой вам было бы интересно помузицировать, как Каравайчуку с Курехиным?
— Я уже десять лет не занимаюсь продюсированием — все силы отдаю собственным проектам. Поэтому не могу вам назвать никаких имен. Но с уверенностью могу сказать, что нынешние 16–20-летние — абсолютно иные и то, что получается у них, не получалось даже у 30-летних, я уже не говорю про свое поколение. Именно с ними связаны все мои надежды, причем не только в музыке, но и во всем. Им суждено очень серьезно изменить нашу жизнь.
— Что вы в них видите такого, чего нет у старших?
— Они выросли в иное время. Они абсолютно свободные, легкие. То, что им неинтересно, они делать не будут. Не станут связывать жизнь с данными кому-либо обязательствами, если им вдруг покажется, что это не их дорога. И они по-особому взаимодействуют с информацией, оставляя за кадром то, что им не нужно, и наводя фокус на необходимое.
— Стилистически, эстетически это поколение едва ли может быть вам близко. Например, вы слушали в их возрасте рок, а они — рэп.
— Какая разница? Сегодня доминирует в музыке одно, завтра другое. Но что-то остается в истории, а остальное исчезает. В том, что остается, есть жизнь. Вообще, музыку можно поделить на музыку живую и неживую. И это не про стили и направления. Не про рок и не про рэп. Оркестр может играть совершенно неживую музыку, а электроника, напротив, может быть живой по сути. Тут важна степень точности, с которой художник впускает в мир то, что слышит внутри себя. От этого и зависит, останется ли музыка в истории, работает ли она.
А работает музыка совершенно просто: она приводит человека в исходное состояние. Бывает, что весь мир будто против тебя. И ты чувствуешь себя потерянным, абсолютно без сил. Тогда, чтобы найти точку опоры, тебе нужна поддержка. Ты можешь найти ее самостоятельно, глядя на закат, облака, или же тебе поможет в этом искусство. Например, музыка, которая может «сфазировать» мир быстрее всего и надежнее всего. Живая музыка спасает человека. Это может быть как поп-песня, так и большая симфония. А неживая музыка не спасает, так как не приводит в соответствие. Скорее всего, она даже вредна, так как мешает сориентироваться и найти то, что спасет.
— Так вот рэп этого поколения — живая музыка или неживая?
— Я очень много слышал в новом рэпе живой музыки. Даже в каких-то поп-песенках нынешних 16–20-летних очень много настоящего, живого. И, конечно, там значительно больше этого, чем в нулевых и десятых.
— Как вам кажется, тот перелом, который произошел сейчас, повлиял на музыку и искусство?
— Конечно. На мой взгляд, это просто заставило художника быть точнее. Под художником я понимаю не только музыканта, режиссера и так далее, но и вообще любого созидающего человека. Учителя, хлебороба и так далее. Думаю, сложившаяся ситуация заставила всех быть точнее и концентрироваться на самом важном. А самое важное — это впустить тему, Замысел с небес. Каждый в своей сфере это делает. Фильм — это продолжение Замысла, но и хлеб тоже, и дети, которые получают знания от педагога.
Я вспоминаю времена, когда много живого было в подполье. Вспомните ленинградский рок-клуб, выставки художников-нонконформистов на Малой Грузинской. Они постоянно чувствовали давление системы, но за счет этого давления и герметичности все друг с другом общались и друг друга подпитывали. Музыканты с живописцами, живописцы с кинематографистами. И это давление извне помогало им впускать в мир тот Замысел, о котором мы говорим.
В 1990-е годы всё это рассыпалось, все стали зарабатывать деньги. Я не говорю, что это было плохое время. Появилась иная среда, иные возможности, иные приоритеты. Но когда художник расконцентрирован и не отдается теме полностью, которая в него постучалась, точность уходит. Это звучит, может быть, не очень привлекательно, но зачастую среда со знаком минус помогает осуществлению Замысла.
— А теперь? В чем это давление?
— Теперь мы не знаем, что будет завтра. И нам важно успеть.
Олег Нестеров родился в 1961 году, окончил Московский электротехнический институт связи, учился в Московской студии музыкальной импровизации. В 1985-м стал лидером рок-группы «Елочный базар», затем переименованной в «Мегаполис». В 1998 году создал рекорд-лейбл «Снегири-музыка». Также занимался преподаванием, вел передачи на телевидении. Создавал мультижанровые проекты, объединяющие музыку, театр, инсталляции. В 2021 году запустил мультимедийный проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР».













