Зато я умею гудеть: поиски гениальным музыкантом волшебного города

Поклонникам Евгения Водолазкина давно знаком его нелинейный, «авиаторский» способ повествования: герой словно взлетает и кружит над своей биографией, показывая читателю то один, то другой ее фрагмент. В своем новом романе писатель снова использует излюбленный метод — но есть и кое-что новое. Впрочем, обо всем по порядку: «Известия» представляют книгу недели.
Евгений Водолазкин
«Брисбен»
Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. — 410 с.

В предыдущем романе, «Авиатор», события проступали по мере того, как к рассказчику, очнувшемуся после фантастического эксперимента от многолетней заморозки, постепенно возвращалась память. В «Брисбене» герой-музыкант еще только готовится к тому, что память может его покинуть ввиду нависшей над ним грозной тени Паркинсона, но пока симптомы ограничиваются лишь потерей контроля над правой рукой, он волен строить свое жизнеописание, как хочет — так же, как он выстраивает программу очередного концерта в соответствии не только с практическими соображениями (когда лучше поставить сложные вещи, а когда — попроще), но и с внутренними интуитивными ощущениями. Таким образом, самое раннее его смутное воспоминание — в возрасте двух лет — становится своеобразным эпилогом книги. В нем звучит безотчетный ужас едва начинающего жить существа перед грядущей неизвестностью, который пока еще не трансформировался в ужас существа взрослого перед слишком отчетливой известностью финала любой жизни, как бы успешна она ни была.
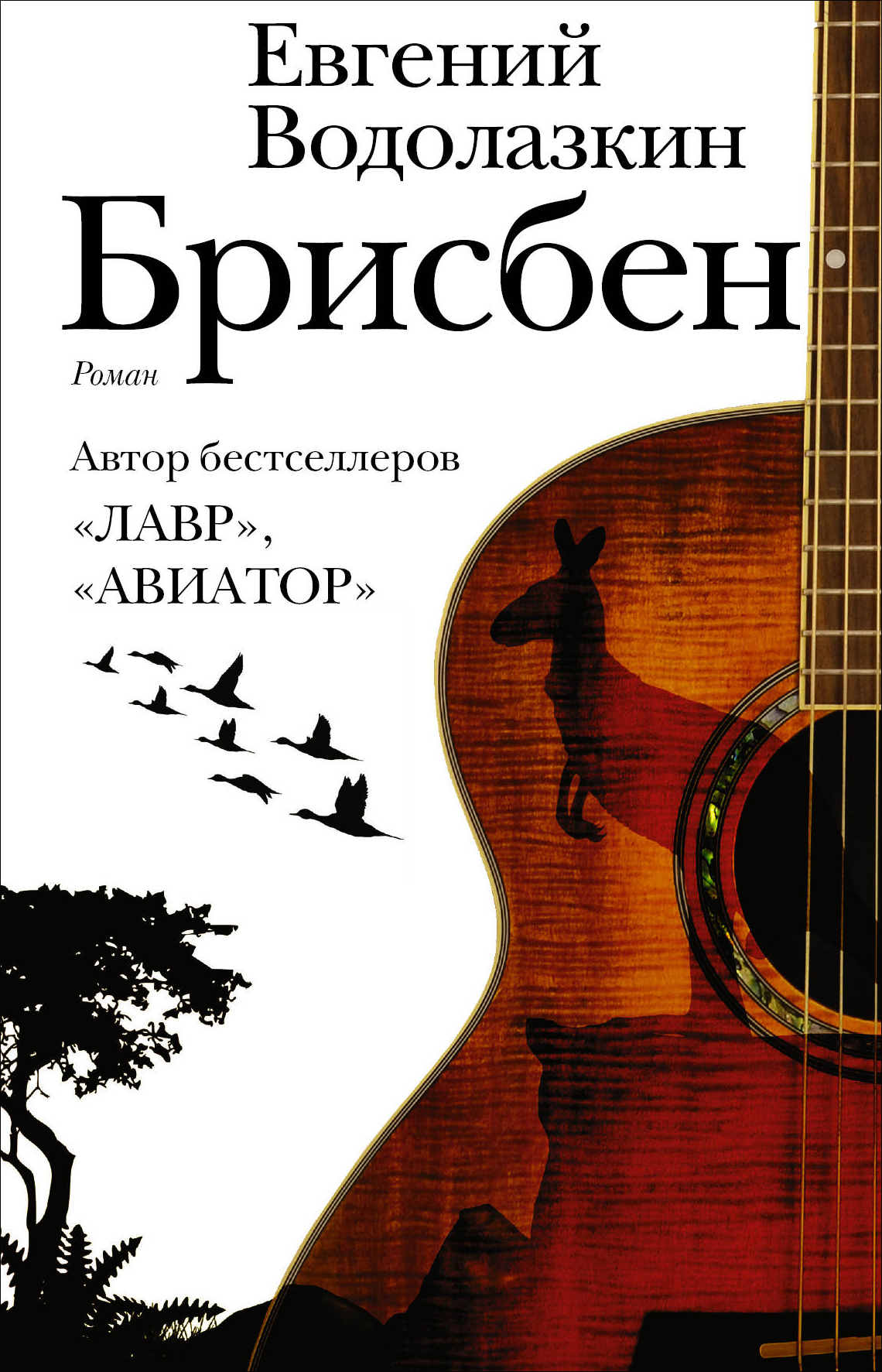
Смысловые оттенки понятия «успех» в «Брисбене» разбираются довольно подробно, и, хотя герой верно замечает в разговоре со своим биографом, «жизнь никогда не бывает историей успеха», его жизнь успешна и в высшем, первоначальном смысле (как духовная польза, приносимая людям), и уж подавно — с обывательской точки зрения, измеряющей success длиной лимузина. Из него на протяжении романа герой выходит неоднократно: Глеб Яновский — всемирно известный исполнитель классической, эстрадной и народной музыки, селебрити вроде Ванессы Мэй, только с гитарой и гораздо круче. Хотя он сам музыку не пишет, зато славится уникальным голосовым «гудением», которое входит в резонанс с его инструментом и производит ошеломляющее впечатление на публику в «Олимпии», Альберт-холле, Карнеги-холле и прочих самых блистательных мировых концертных залах. Описания выступлений Яновского по степени воодушевления аудитории затмевают многие известные в истории рок-концерты: так, во время исполнения в Карнеги-холле композиции «Как на речке было на Фонтанке» зал встает и «уже не садится. Раскачивается всем своим необъятным телом, идеально входя в ритм. Это уже общее тело и общий экстаз».
Объясняется это сверхъестественное воздействие, конечно, не оригинальной привычкой героя мычать под музыку в унисон с гитарой. Водолазкин, как опытный авиатор, забирает куда выше: «Это гудение было как прообраз музыки, как ее небесный эйдос. Он не предшествовал музыке и не рождался ею, а точнее — и предшествовал, и рождался, поскольку совершенно не зависел от времени. Глеб обращался к той небесной матрице, с которой отливалась играемая им музыка. <...> Речь шла о мистической полифонии, сочетавшей в музыке то, что было явлено композитором, с тем, что в небесном образце осталось для него закрытым».
Разумеется, всему этому не научат в консерваториях: будущий виртуоз, окончивший только школу по классу домры и гитары, дальнейшую музыкальную карьеру поначалу не планирует и получает высшее образование на филфаке Ленинградского университета, учебе в котором посвящен один из трех пространственно-временных пластов «Брисбена», охватывающих, кроме того, киевское детство-отрочество с перипетиями духовного возмужания и полового созревания и мюнхенскую современность, сталкивающую 48-летнего героя с медицинскими проблемами. В университете, увлекшись работами Бахтина о Достоевском, Яновский (наполовину однофамилец Гоголя, что тоже знак читателю) пишет диплом по полифонии, к которой давно неравнодушен и сам Водолазкин: «Глеб видел полифонию не только в параллельных голосах героев, но и в противопоставленных сюжетах, в разновременных линиях повествования, точка соединения которых может находиться как в тексте произведения, так и вне его — в голове читателя».
Однако читатель, даже самый пытливый, все-таки ждет подсказок от писателя — как нащупать у себя в голове эту самую точку, чтобы полифония вштырила максимально, как песня про грустного извозчика на концерте в Карнеги-холле, — и первым делом пытается расшифровать смысл названия книги.
Слово «Брисбен» герой впервые слышит на странице 19, когда его мать называет Брисбен городом своей мечты просто из-за красоты названия: «Город легко присоединился к Зурбагану, Гель-Гью и Лиссу, о которых мальчик читал у Александра Грина». Город недостижимой мечты навевает и сравнение с остапбендеровским Рио-де-Жанейро, в самом существовании которого мечтатель в момент отчаяния начинает сомневаться, но с Брисбеном все сложнее — в итоге он скорее напоминает твинпиксовский трансцендентный Белый Вигвам, куда хороший человек может попасть, позвонить и даже получить ответный ободряющий звонок (раздающийся всегда удивительно вовремя). Остается загадкой, можно ли в Брисбене жить, хотя в романе обрисована заманчивая возможность выйти там замуж — скажем, за однофамильца знаменитого путешественника Джеймса Кука, у которого позаимствован эпиграф: «Есть основание предполагать, что континент или значительного размера земля может быть найдена к югу от пути прежних мореплавателей».
Сгодилась бы в качестве эпиграфа и проходящая лейтмотивом скороговорка «Жутко жуку жить на суку», сочетающая все ключевые для самоощущения героя компоненты — и гудение, и возможность взлететь, и страх, что с Паркинсоном придется в лучшем случае ползать.
Давний читатель Водолазкина с удовольствием отметит в «Брисбене» ту непринужденность, с какой философствующий автор перемещается из храма в пивную, и будет готов к тому, что ловкий рассказчик, не лишенный юмора, порой впадает, как Волга в Каспийское море, в задумчивую медлительную благостность. Тогда повествование уже не бурлит и не пенится, а лишь отражает небо зеркальной гладью, и книга из увлекательной прогулки на моторной лодочке превращается в шлепанье по кромке прибоя, когда, глядя на закат, приятно предаваться отвлеченным размышлениям — например, о том, есть ли Бог, и если да, то почему.
Если кратко суммировать корпус трудов Водолазкина, Бог есть прежде всего потому, что человек боится смерти. Впрочем, даже и самая искренняя вера — лишь паллиативное средство, окончательно от этого страха не избавляющая, и несмотря на точный (хоть и высказанный душевнобольным персонажем) афоризм «Жизнь — это долгое привыкание к смерти», привыкнуть к ней решительно невозможно.










