Сын Робинзона: из Африки с любовью

До нас переводы этого 80-летнего нобелиата и живого классика французской литературы добираются почти с той же неспешностью, что присуща его манере повествования. Несмотря на это, вдумчивый любитель жарких стран и затерянных уголков планеты Жан-Мари Гюстав Леклезио давно имеет свою стабильную читательскую аудиторию в России — критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Жан-Мари Гюстав Леклезио
Африканец
Москва: Эксмо, 2020. — [пер. с французского Н. Жуковой]. — 128 с.
Когда в 2008 году Жану-Мари Гюставу Леклезио вручили Нобелевскую премию по литературе, отклики были отчасти удивленными. Расцвет писателя пришелся на 1990-е, когда вышли наиболее известные его вещи — «Онича», «Диего и Фрида», «Золотая рыбка», пока еще не переведенный на русский «Карантин». Леклезио был, по мнению специалистов, давно достоин Нобеля, но к тому моменту, когда награда наконец нашла героя, его имя успело подзабыться. Впрочем, всё же не окончательно — чему свидетельством этот «преднобелевский» роман 2004 года, посвященный отцу писателя.
С 1928 года старший Леклезио более двух десятилетий проработал врачом в Африке. Во время Второй мировой он был надолго отрезан от страстно любимой жены, уехавшей во Францию рожать первого из двоих сыновей-погодков. Леклезио, интересующийся не только своим детством, но и пренатальным периодом, включая зачатие, которое он помнить не может, однако жаждет вообразить:
«Африка — одновременно и дикая, и такая человечная — стала их долгой брачной ночью. Весь день солнце обжигало им тела, так что они наэлектризовались до предела. Той ночью, полагаю, под неумолчный барабанный бой, от которого вибрировала под ними земля, они занимались любовью, нервно сжимая друг друга в объятиях, потные и разгоряченные, в жалкой хижине из веток и грязи, размером не больше курятника»
«Африканец» значительно короче, чем знакомая русскому читателю «Пустыня», написанная Леклезио в 1980-м, но стилистически чем-то ее напоминает — прежде всего, нудновато-восторженными описаниями природы. Писатель погружает читателя в завораживающие пейзажи неторопливо и обстоятельно, будто в некоем словесном рапиде. Впрочем, в зависимости от читательского темперамента, именно эта медитативная, успокоительная и убаюкивающая основательность, вероятно, кого-то как раз больше всего и пленит в прозе Леклезио, незаметно затягивающей, как зыбучие пески.
После того как в 1963-м Леклезио ярко заявил о себе первым романом «Протокол», литературная общественность объявила о рождении нового Камю, однако не обратила внимания на симптоматичный эпиграф из «Робинзона Крузо». Его теперь можно интерпретировать как предвестие последующей трансформации писателя. Многообещающий дебютант быстро переключился на сочувственные оды «благородным дикарям» и приобрел репутацию «руссоиста», ценящего природную свободу и естественность выше любых культурных достижений.
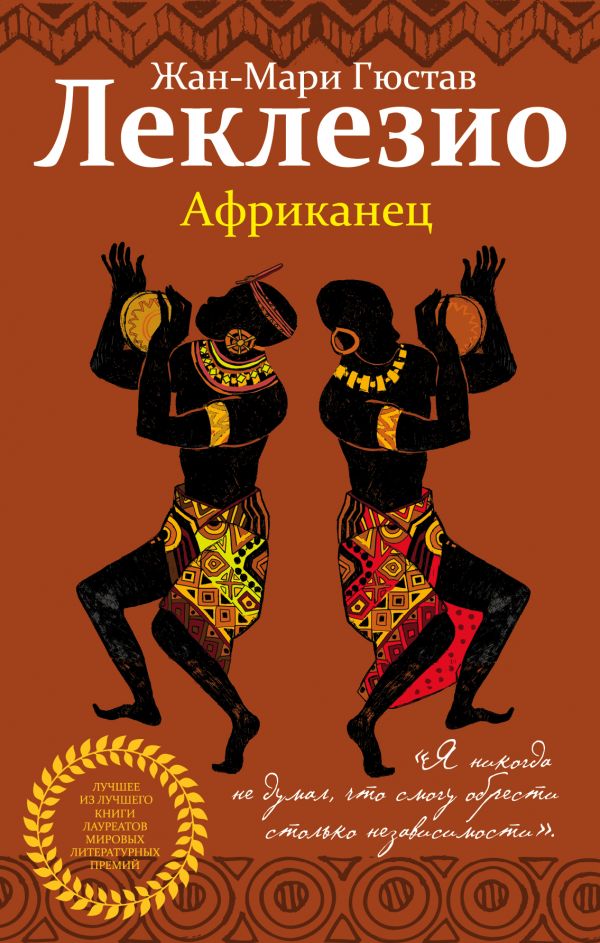
В «Африканце» этого экологически чистого руссоизма хватает. Начиная от детского удивления голой африканской старухой, которой, в отличие от европеек с их корсетами и румянами, нет надобности маскировать свою старость, как постыдную болезнь («...я ощущал вовсе не ужас и жалость, а приязнь и интерес, — то, что обычно вызывает созерцание истины, живой реальности») и заканчивая горьким экскурсом в историю гражданской войны в Нигерии:
«Ради владения нефтяными скважинами в устье реки Калабар племена ибо и йоруба истребляли друг друга под безразличным взглядом западного мира»
Сам Леклезио ведет неустанную войну против колониализма и лицемерных книжных представлений о нем, да и вообще против буржуазных обывателей, которым противопоставляет своего отца-нонконформиста:
«Он не имел ничего общего с мужчинами бабушкиного круга, которых я видел во Франции, с этими «дядями», друзьями деда, джентльменами преклонного возраста — изысканными, увенчанными наградами, патриотами с реваншистским душком, балагурами, любителями дарить подарки, имеющими семьи и приятелей, непременными подписчиками «Журнала путешествий» и читателями Леона Доде и Барреса»
Жаль только, что любопытство, которое вызывает у читателя заглавный герой книги, личность явно неординарная, остается не вполне удовлетворенным. В психологическом плане отец в «Африканце» получился немного условный, примерно такой, как в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение», — абстрактная фигура из притчи, пугающая своей суровостью. Но звягинцевский отец хотя бы иногда что-то цедит сквозь зубы, а у Леклезио не найдешь и пары строчек диалога, отчего складывается ощущение, что они с отцом обходились исключительно невербальной коммуникацией.
Отец, с которым будущий писатель впервые встретился только в восемь лет, подарил сыну Африку — самое яркое впечатление жизни, основательно его «перепахавшее», и для описания своих головокружительных ощущений Леклезио не жалеет эпитетов. Однако сам по себе он выписан с куда меньшей живостью, суховато и скуповато (хотя такая деталь отцовского облика, как слишком широкие и короткие брюки, упоминается неоднократно).
Во время одной из эмоциональных вспышек, нечастых у такого уравновешенного рассказчика, как Леклезио, он горячо возмущается людьми, покупающими всякие туземные артефакты и развешивающими их по стенам, не вкладывая в них никакого личного эмоционального содержания:
«...подобные предметы покупали и выставляли люди, ничего не знавшие обо всем этом, для которых они ничего не значили, и даже хуже — для кого все эти маски, статуи и троны были не полными жизни вещами, а мертвой оболочкой, которую у нас часто именуют искусством»
В каком-то смысле это относится и к самому роману. Память порой превращает дорогого покойника в сувенир (так, собственно, и переводится французское слово souvenir — воспоминание), который ты бережно хранишь в потайной шкатулке и достаешь в минуту ностальгии, но который лишен самостоятельной воли и независимого от тебя существования.
Нечто подобное произошло на страницах книги с отцом автора: если Африка для Леклезио — чудесное облако, дышащее и переливающееся красками, звуками и запахами, как бы окутывающее всю его жизнь, где бы он ни находился, то отец-«африканец» больше напоминает хоть и драгоценную, но статичную, покрытую пылью декоративную фигурку, скучающую на каминной полке.







